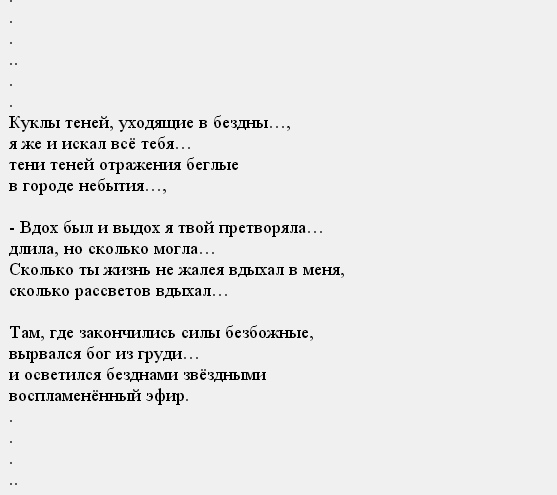Единственное Желание. Сказка
Ирина Токарева https://www.proza.ru/avtor/jackinthebox
Распростерлась степь бескрайняя – ни почину нет, ни окончания. Дорогим восточным ковром уходит за горизонт, саваном погребальным долы выстелены. Там, где солнце садится за далекий край, растянулось строем темное воинство - древние курганы стерегут степной покой. Небо гаснущее, прозрачное, легло на степь, словно крышка стеклянная на татарский котел. Высоко-высоко журавли стонут, осень окликают. Реет степной орел, крылья распластал, глазом острым дали меряет. Нет никого, только полег ковыль– от края южного до самого севера. Гонит вольный ветер по нему волну, отливает степь чеканным серебром. А в разливе ковылистом тропы пролегли. Кто их протоптал, знают облака, да орел, что парит средь них. То ли табуны прошли, пронеслись кони дикие, то ли гнали скот здесь кочевники…
Лентой траурной вьется Черный Шлях, острая стрелка землю рассекла, пыль бурая, будто кровью политая, лежит пленкой непорушенной, да скромный аржанец края пути повил. Свищут тонко суслики, в ендовах волки воют. Сонмы теней из оврагов ползут. Скоро ночь, скоро ляжет на степь туман. Будут призраки петь грустные песни до утра, до луча солнечного, и замолкнут, едва он холмы вызолотит, потому как нет в степи петуха. Некому злые силы звонким голосом загонять в стойла адские.
Вскочил на кочку заяц, в струнку вытянулся, уши навострил. Конский топот, частый, и глухой, разорвал в клочья тишину. Вылетел на взгорье черный жеребец. Заяц вскинулся, и скакнул в ковыль. Замелькала серая шкурка, занырял косой, как язь в неводе, пропал с глаз долой.
- Хей, дружок, погоди! – закричал седок, и степной воздух вытянул плетью. Полетел по просторам свист молодецкий, подхватил его ветер, унес за холмы.
Ехал по степи удалой казак. Гнал коня в густеющий мрак, торопился к хатам у Днепра. Хутор там родной, мать-старушка ждет. Сестрица девочкой была, когда брат на войну подался, а теперь чает он встретить чернобровую девушку – коса длинная вдоль тонкой спины, да голосок, чистый, словно лесной ручей.
Скоро покос. Томится пашня, пахнет медом клевер. Пчелы отяжелели от хмельного запаха, пьют нектар. А тучный колос пьет свет солнечный, клонит вызерненную головку к земле. Встать бы на стерню босиком, да взмахнуть косой. Рубаха взмокнет от пота, на усы налипнет паутины нить. Летят тенёты над пышногрудым полем. Пляшет в текучем мареве дальний лес. Жарко. Сестрица едва поспевает за косарем, собирает сбитый колос, ловко вяжет высокие снопы.
Давно казак не брался за косу. Забыл, как свистит ее отточенное лезвие над травами. Как гром гремит над родным хутором, поливает огороды летний дождь. Поет сестричка за пряжей, жужжит веретено, подпевая девушке. Матушка тихо молится, крестясь на образа. На базу мычит телок, утки крякают.
Зато хорошо помнит он голос сабли своей. Взвизгнет она, рубя врагу голову, кровь басурманская блеснет маслянисто на долах, горячие капли упадут на мундир. Грянут пушки, заговорят самопалы… Конь горячится под седлом, жадно вдыхает пороховой дым. Сигнала к атаке ждет. А вечерами воет в осажденном городе мулла, призывает Аллаха покарать неверных, рвутся в небо острые шпили мечетей, да лунный свет горит на магометанских серпах. В родном стане под стенами – веселье. Горилка и голос друга у костра походного. Поет Ендрусь о невесте, вспоминает ее черные очи, пшеничные локоны, губы алые. Звучно вторит ему лютня. Летит над гетманским войском нежный голос молодого поляка.
Говаривал полковник - атаман, будто тех, кого дома дожидаются, пули не кусают. Сам полег в битве, - жену и дочек татары давно в Крым угнали. А вот солдаты его живыми едут домой.
- Богдан! Шальная голова! Спой-ка, да так, чтобы степь заплясала!
Оглянулся казак. Скачет следом названный брат. Пан Анджей, знатный шляхтич. А на войне – поручик гусарской хоругви, воин смелый, товарищ надежный. Хорош витязь! Пусть кунтуш на нем походный, дорожной пылью припорошен, но на статном молодце смотрится как княжеский наряд. Звездой сверкает аграф на куньей шапке, сверкают и зубы при дерзкой улыбке. Пышноусый он, пан Анджей, глаза, как зерна кофейные, под соломенной чуприной. Ухмыльнется, и черти скачут в бархатных очах, сыплют искры жгучие. Нос орлиный, а взгляд задорный, хоть серьезен Ендрусь не по возрасту, - чин воинский обязывает.
Сдружились вольный казак и польский копейщик. Кровью спаяны звенья братской любви. Дружба неравная, но верность потешается над неравенством.
- Скучно тебе, братец? Утомился? – засмеялся Богдан.
- День-другой в пути, и вступим на берег Омельника. Сменит колючий репейник вихрастый ковыль. Не журавли будут курлыкать над нами, Богдан, виться будет крикливое воронье. В Диком Поле лихих песен нам не петь. Рыщет там шакал, да бродят чамбулы татарские. Поедет отряд тихо и рассудочно, как гусята скользят за гусыней по озеру. Довести до дома я должен моих солдат живыми - здоровыми. Спой, друже, повесели. Что-то сердцу тяжко. Гнетут меня думы, словно ветер гнет у тына калину тонкую, а деревце, того гляди, переломится. Запевай, чертушка! А я подхвачу!
Намотал Богдан на кулак хвост нагайки. Запел. Всколыхнул звонкий голос степь. Переливчатым ржанием подпел хозяину черный аргамак. Засмеялся Ендрусь. Вот уж догоняет друзей конный разъезд. Едут домой солдаты. Мундиры синие, шапки бараньи, высокие. Взбивают копыта дорожную пыль в багровый туман.
- Знаешь, Ендрусь.. – вдруг вздохнул казак. Замолчал он, но песнь его не стихла, подхватили ее рыцари. – Сколько времени мы копытим степь, ни конца, ни краю нет путешествию. Дней до осени – непочатый край, а Илья-пророк в реках воду еще не студил, только ночи давно не летние. Звезды блещут, огромные да мохнатые, а месяц – что скатный жемчуг от холода. Дюже устал я, брат, у костра ночевать. Конь свежего зерна требует. Повстречалось бы нам селение на пути…
Улыбнулся молодой шляхтич, подкрутил пшеничный ус. Его конь, жеребец караковый, пяти деревень стоит. Держит верно путь без поводьев, в бою львиной грудью смело во вражескую пехоту врезается. Говорит Ендрусь казаку.
- Ты, Богдан, - воин, не дева нежная. А зараз заскучал в степи!
- Глянь на север! – отвечал казак, указав рукой направление. – Видишь, шляхи небесные разгораются. Выплывает на небосклон луна. Там, над лесом, над ольшаником, звездный ковш висит, будто опрокинутый. А под ним, над вершинами ольх, зарево слабое мечется. Слыхивал я от старика отца, в тех краях Белый хутор есть. У холмов лежат покосные луга, хаты-мазанки по ним рассыпались. Катит речка сквозь деревеньку воды студеные. А по весне холмы белой шалью одеваются – цветут сады вишневые, яблони кудрявятся. Дали те сады название хутору. Едем, Ендрусь! Кличь солдат. Отдохнем в шинке, у очага погреемся. Съел бы я галушек со сметаною целую бадью, да в тороках только зайцы да куропатки. От души бы сплясал с глазастой дивчиной, повеселился бы. Да вечерами у костра только ты меня веселишь, все поешь про свою ненаглядную. Эх! Говоришь, душа томится? Рассеет скуку молодая хуторяночка, а ясная панна еще погодит денька три. Отдохнем чуток, прежде чем в Дикое Поле вступать, подождут нас чертополох и грязь, не соскучатся.
Нахмурил поляк брови соболиные, угрюмо на друга глянул. Почуял скакун волнение хозяина, заходил под богатым седлом, звякнула подкова, о камень ударившись. Не хочет гусар с пути сворачивать. Долго встречи с милой ждал, чтобы дальше радость откладывать. Хоть и воевал он смело, дрался отчаянно, не бежал от пуль вражеских, все же чаял живым вернуться к невесте. Еженощно молил Богоматерь смерть от него отвести. Услыхала она молитвы витязя, вот уже дожидается молодых в Варшаве ксендз.
Богдан, казак реестровый, тоже помрачнел, ожидая ответа. Неспокоен он. Нрав, как дикий смерч. Хочет парень мать, сестру обнять, да в седле сидеть устал. Опостылела ему глухая степь. Кровь вскипает в шальном казачине. Вот бы молодку румяную приласкать, или парням хуторским в драке ребра пересчитать.
- Нет, Богдан. Нет причины сворачивать. Вижу зарево над ольшаником, далеко от нас Белый хутор твой. Вот что скажу тебе, шнуры до конца сгорят, полночь отмечая, а не доедем мы до селения. Не серчай, казак, гони вперед Воронка. Скоро дома будешь, там набалуешься.
Был казак молод да горяч. Кудри черные, скулы турецкие, оскал волчий. Брови злобно изломал, коня по крупу плеткой хлестнул. Конь хозяину под стать, не жеребец, сущий сатана. Ноги легкие, голова змеиная, хвост мочалистый, необрезанный. Взвился он на дыбы, в ковыль ринулся, и помчался в степь.
В то же мгновение потянуло издали могильным холодом, будто задышала смертью ночь. Глянул Ендрусь на небо, а там выплывает месяц, с левого бока ущербленный, льет на поле мертвенно-бледный свет. Под ним беснуется черный жеребец, несется по Шляху прочь, не находит всадник покоя в скачке, все бока скакуну исхлестал.
Задумался юноша. В степи скоро станет темно как на погосте. Коли лежат поблизости чьи-то кости непогребенные, выбеленные временем и суховеями, поднимет их в полночь злая воля убийцы. Пойдет мертвец по округе бродить, искать обидчика, будет жалобным рыданием зверье пугать. А если набредет на костер да на путников, непременно кому-нибудь в горло вцепится. Не уходит вурдалак от живых людей, не испив парной крови.
Не был гусар трусом, не страшился нечисти, знал, охраняет его святое распятие, что носит он на шнурке под рубашкой, а более всего остального охраняет христианина искренняя вера. Но отчего-то больно сжалось сердце. Объял тело мороз. Стиснул Ендрусь пальцы на рукояти сабли, и схватила его в объятия такая тоска, что едва не закричал витязь.
- Гей! Ребята! Поворачивай на север! – отдал он приказ. И сам первым развернул коня мордой к ольшанику. Заметил Богдан, как повернул разъезд, громко засвистел. Вмиг нагнал резвый воронок жеребца каракового, пошли они рядом, ноздря в ноздрю.
* * *
Прав оказался пан Анджей. Долго добирались солдаты до хутора, въехали в широкие ворота далеко за полночь. Верно Богдан говорил, деревенька лежала за ольшаником, у зеленых холмов, поросших дикими вишнями. Хуторской месяц от степного отличается. Висит над крышами, желтый, как крестьянский сыр, сизыми облаками густо увит, укутан. А земля тут гостеприимная, трава шелковая, почва горячая как печь, видно нагрело ее солнце за день, теперь жар волнами вверх поднимается. Речушка журчит, а над ней небо уж розой зацвело. Плещется вода средь прибрежных камней, приглашает путников искупаться, освежиться после путешествия. Заливается соловей в малиннике, зарю зовет.
Хаты крестьянские на пригорке в тишине стоят, ночной сон не выпустил их из своих сетей, но нет-нет, да мелькнет в окошке огонек, - запалила хозяйка лучину, стряпать принялась, потом пойдет корову на выпас провожать. Уже звенит за огородами пастуший рожок, будит хуторян, утро возвещает, и вторят пастуху кочеты.
Широкая тропа вьется в обход деревни, мимо хат к самым холмам уводит всадников. Слышат цокот копыт сторожевые псы, с хрипом рвутся с цепей, хотят разузнать, кто тревожит спящий хутор в ранний час. Вдоль дороги обтесанные столбы вколочены, украшены лентами разноцветными, венками из полевых цветов. Пахнет воздух свежескошенным сеном да спелыми яблоками, и вплетается в эти запахи съестной дымный аромат. Шинок, значит, поблизости. Отдохнут там войны, выспятся.
Едут они мимо ветхого плетня, а через край ветви тяжелые свешиваются, мерцают на них налитые соком плоды. Сорвал Богдан на ходу яблоко, надкусил румяный бок и к другу обратился:
- Не хотел, Ендрусь, сворачивать, а глянь только, вовремя мы в Белый хутор наведались, скоро будет тут веселье. Посмотри, как тракт украшен, верно, поедет вдоль него гость, поважнее нас!
Глянул поляк на развевающиеся ленты, на столбы осиновые, покачал головой, не ответил другу. Замедлил ход его умный конь. Въезжали служивые на постоялый двор шумной ватагою, лаяли потревоженные собаки, вышли из корчмы шинкарь с шинкаркою гостей встречать. А Ендрусь, лишь увидел у ворот каплицу старую, спрыгнул с седла, подошел к алтарю, опустившись на колено, перекрестился и коснулся пальцами края распятия.



 15th Декабрь 2018, 14:22
15th Декабрь 2018, 14:22 Copyright: Ирина Токарева, 2010
Copyright: Ирина Токарева, 2010